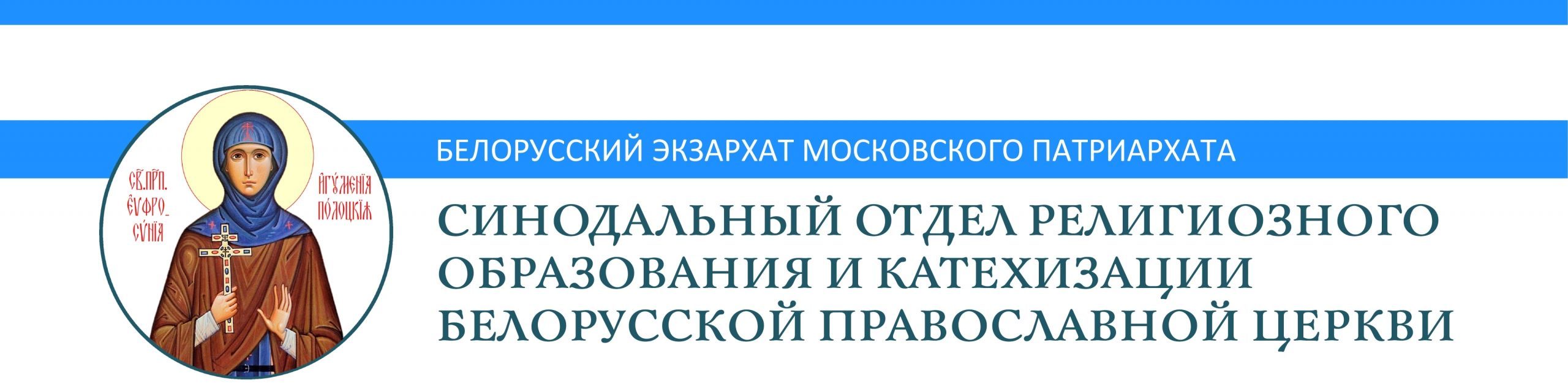Воспоминания архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шаховского) о своем религиозном воспитании в детстве.
Отец влиял на меня всем стилем своей спокойной жизни, благодушной трудолюбивостью и серьезным, честным отношениям к вещам. Это усваивалось без поучений. Мать учила своей живостью, допускавшей лишь в меру снисхождение к слабостям.
У меня осталось в памяти (на всю жизнь) поучение ее, как и отца, не лгать даже в пустяках и иметь мужество сознаваться в недолжном поступке. С ранних лет слово «правда» мне преподносилась как ценность сама по себе, независимая ни от какой инструментальной ее нужности и ценности. С детства правда была для меня чем-то прекрасным и привлекательным…
…Уроки Закона Божьего прошли почти бесследно для моего сознания. В подсознании, может быть, и остался от них какой-либо след, но сознания религиозного у меня ещё не было. Было лишь детское чувство веры. И помню, как благоговейно я остановился однажды в Матове на пороге кабинета моего отца, а потом тихо ушёл, когда, ворвавшись туда одним летним днём, я вдруг увидел в тишине комнаты моего отца, молящегося на коленях. Вдруг я ощутил тайну молитвы.
Помню, радостно было мне всегда, идя ко сну, прощаясь с отцом, принимать его благословение и целовать его, перекрестившую меня, руку. Таков был обычай в семье.
Мне было также радостно (ещё в более раннем детстве) молиться на коленях в кровати перед сном, когда рядом молилась научившая меня молиться мать. Слова этой моей молитвы были такие: «Господи, спаси и помилуй папу, маму, дедушку, бабушку, Варю, Нату, Зину и меня, грешного Митю». Окончивши эту свою детскую молитву, я крестился, целовал небольшую икону Спасителя в серебряном окладе, висевшую у моего изголовья, и сладко забирался под одеяло. Мать крестила и целовала меня.
…Особое священнодействие полагалось в дни рождения кого-либо из семьи или его именин. Когда наступали мои дни — 23 августа или 21 сентября (дни памяти святителя Димитрия Ростовского), мы обычно были ещё в деревне. В эти дни я чувствовал себя особым человеком и — «на седьмом небе». Открывая глаза утром, я уже знал, что около постели будут лежать тайно положенные туда ночью подарки.
Когда в этот день я сходил в столовую, в первом этаже, я видел (знал, конечно, что увижу) замечательную картину: все стулья или кресла вокруг стола были обычные, но одно (и это было кресло) стояло на моём месте, разукрашенное цветами.
Я садился торжественно в это кресло, а все садились на свои обычные места. Никто ещё не касался яств. Все смотрели на огромный крендель, благоухающий всеми запахами, тепловатый, покрытый миндалём и сахарной пудрой. Крендель должен был участвовать в теургическом действии. Теургом была мать. Она подходила ко мне, сидящему в цветах, брала со стола этот пышный крендель и, став позади кресла, на котором я восседал, опускала крендель на мою голову и торжественно, чуть изменившимся голосом, говорила: «Во здравие раба Божьего Дмитрия». И — крендель разламывался пополам о мою голову.
Но гопова от этого совсем не страдала. Наоборот, она веселилась вместе с сердцем и витала где-то высоко. Священнодейственный момент этим оканчивался. Поздравляя виновника торжества, все начинали пить кофе или чай с этим душистым кренделем.
Несомненно, в этом действии было что-то, связанное с «высшим миром». И ребёнок чувствовал это возвышенное, и понимал, что он не только Митя, но и Дмитрий, и что главный его титул — раб Божий. Именно этот титул оставался в душе самым высоким титулом человека.
…Отец и мать дали мне много в жизни, каждый по-своему и по-разному. Они были люди разные, дополнявшие друг друга. Отец был человеком большой веры, тихой церковности, скромности.
«Чувство России», я думаю, стало у меня развиваться с десятилетнего возраста. С благоговением и детской гордостью читал я в историческом повествовании, как во время Бородинского боя действовал у деревни Утица против маршала Даву корпус «егерей Шаховского». Тогда генерал-майор и командир егерей в Бородинской битве, прадед мой, Иван Леонтьевич, стал в 30-е годы одним из усмирителей Польши, а потом Генералом Аудиториата (высший чин юстиции Русской Армии). Император Николай I говорил о нём как о «своей совести» (сейчас трудно определить, в чём он был внимателен к этой совести).
Его портрет, висевший у нас и показывавший на нём все российские ордена (кроме Георгия 1-й степени), возбуждал во мне чувство России. Я осознавал чрез него себя причастным к России.
Это чувство русскости у меня еще более обострилось, когда мне стало известно, что наша семья своё начало ведёт от Рюрика и святого князя Владимира, чрез святых благоверных князей Феодopa Смоленского и Ярославского, память которого и сыновей его, Давида и Константина, Церковь празднует 19 сентября (2 октября по н. ст.) и 5 (18 по н. ст.) марта.
Разумеется (мой отец любил это слово), чувство патриотизма, любви к Родине, к земле своей, к предкам и их славе — двойственно. Тут есть своя правда, о чём говорит и Библия, но тут может быть и большая нравственная ложь. Человек не должен себя духовно утверждать ни в своих предках, ни в потомках. Люди — существа не отвлеченные. Человеку дана земля, дана история, но высшей стороной своей он открыт миру духа и истины, бессмертному спасению в высшем бытии…
По материалам статьи «Главный титул – раб Божий» из книги Г. Чиняковой «Родительский крест». – М. 2014.