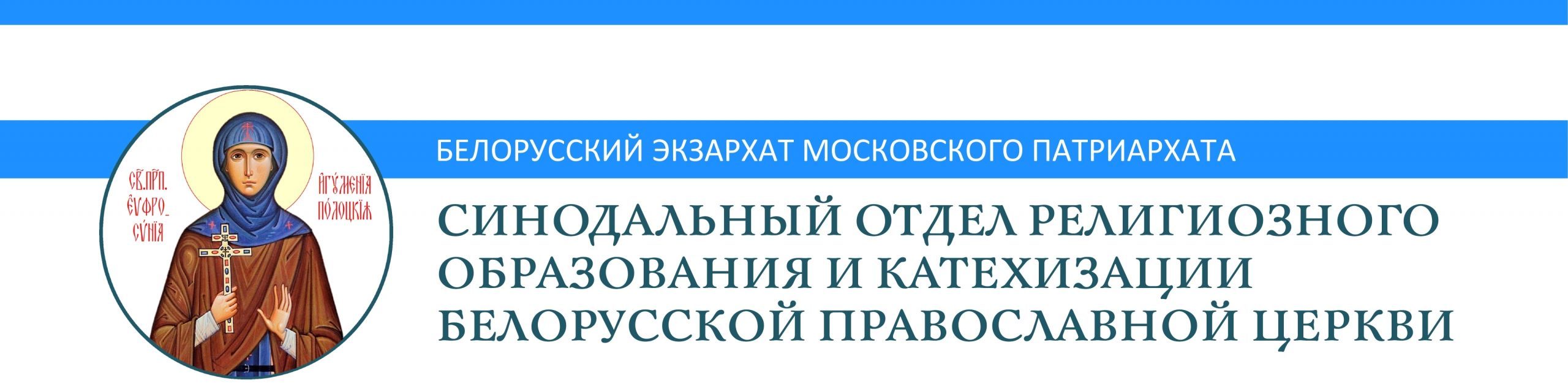Интервью порталу Sputnik Беларусь иерея Романа Артемова, клирика минского Свято-Духова кафедрального собора, о духовном окормлении неизлечимо больных детей.
Служителем Церкви Роман Артемов из Дзержинска стал осознанно. Как он сам признается, молния по нему не била, с парашютом он не падал и не обещал Богу, что станет священником. А просто захотел и стал.
В 13 он уже прислуживал в храме, затем поступил в Институт теологии БГУ, а после в магистратуру. Отработал распределение (преподавал философию в Новопольском колледже), принял сан, стал приходским священником и преподавателем Минской духовной академии. А потом в его жизни появился хоспис. И дети.
“Я – официальный сопровождающий священник Белорусского детского хосписа – тот, кто сопровождает семьи тяжелобольных детей. А еще окормляющий священник Республиканского клинического центра паллиативной медицины помощи детям. Это две смежные организации”, – представляется отец Роман, пока идем по коридорам Духовной академии в поисках свободной аудитории.
Детский хоспис – это организация, которая помогает неизлечимо больным детям. И он в жизни нашего героя появился два года назад. Однажды прихожане попросили отца Романа причастить своего ребенка в паллиативном центре. Оказалось, что ни в центре, ни в хосписе нет своего священника, и митрополит (на тот момент Павел) благословил иерея Романа окормлять эти две организации.
Священник рассказывает, что первый раз, когда зашел в хоспис, был легкий шок.
“Ты заходишь, а там лежит ребенок с кучей трубок в животе. Видел такое и раньше, потому что в реанимации священники крестят детей, и там фактически такие же ситуации. Но первое время было немного некомфортно”, – вспоминает иерей.
Священник Роман понял, что не со всеми детьми удастся нормально вести диалог, поскольку некоторые из них обездвижены и не могут общаться. А ведь нужно много и часто говорить с родителями, поддерживать их. Он поступил в психологическую магистратуру в направлении кризисной психологии – “прокачать” квалификацию.
Вылилось в итоге это в то, что в Минской духовной академии для будущих священников открылся целый спецкурс по сопровождению умирающих людей.
“Вроде священник постоянно сталкивается со смертью, но зачастую не знает, как правильно общаться с тяжелобольными людьми. Изучаем, как говорить с детьми о смерти, что делать в тех или иных ситуациях и так далее”, – продолжает он.
«Сказать, что деток мало болеет – нельзя, что они не умирают – тоже. Хоспис и паллиатив не всегда о смерти, это больше о качестве жизни», — говорит священник.
“То есть если ребенок онкологический или паллиативный, то задача – не поскорее угробить их, а обеспечить их качество жизни на том уровне, на котором это возможно. Правильно обезболить, правильно подобрать лекарства. Создать психологическую поддержку, духовную, социальную, юридическую помощь”, – констатирует отец Роман.
При этом родители, по словам Романа, испытывают еще больший прессинг, их словно разламывает на части, когда умирает ребенок.
“И поэтому моя задача – не только деток сопровождать, но и поддерживать родителей в момент ухода детей. Важно, чтобы был рядом человек, который знает, что делать дальше, после ухода ребенка”, – поясняет он.
Что говорить и как общаться с воспитанниками Белорусского детского хосписа, отец Роман выбирает в зависимости от возраста. Есть целая градация, как и с кем разговаривать. До 12 лет – один подход, после 12 – другой. Самые сложные разговоры, признается он, – с подростками, которые задают очень прямые и не самые простые вопросы.
“Была ситуация, когда уходил 17-летний парень. Я его причащал, исповедовал, а он задавал мне вопросы. Мол, я жить хочу, семью хочу, хочу быть с женщиной – почему я должен умирать? И тут ты понимаешь, что не скажешь ему: “Дружище, у меня все это было, это все не кайф”. Он этого не проходил и уже не пройдет. И тогда говоришь: “Прости, я не знаю, что тебе сказать”, – рассказывает священник.
И продолжает: самое главное в общении с такими детьми – честность. Когда ты не знаешь, нужно говорить “я не знаю”, когда тебе страшно – говорить, что страшно. Дети очень быстро тебя раскусят и поймут, что тебе “по барабану” на них или что тебе не интересно. Настолько все чувствуют, что в следующий раз могут не подпустить к себе.
“Эти дети – уже не дети. Они взрослые, у них глаза взрослых людей. И в них столько преодолений, сколько обычный человек за всю свою жизнь еще не знал. Главное – оставаться с ними до конца включенными, без мысли о том, что тебе делать потом”, – добавляет он.
Бытует миф, что дети ощущают и воспринимают духовный мир ближе, чем у взрослых.
“Проверить это, к сожалению, невозможно. Но я в это верю. Дети видят реальность по-другому и чувствуют Бога иначе. Им не надо объяснять, что он есть и почему в него надо верить. Они изначально в него верят, как в сказки. И в этом плане с ними легко общаться о смерти. Дети сами иногда задают эти вопросы и принимают это как данность”, – растолковывает отец Роман.
И говорит о том, верят ли дети в его россказни.
“Тоже зависит от возраста. До 12 лет верят, но не всегда. Многие из них в Человека-паука верят больше, чем в Бога. И тогда сложнее. После 12 начинаются вопросы “почему мне больно”, “почему Бог такой, я не хочу с ним дружить” и так далее”, – излагает он. И продолжает рассказывать в формате монолога.
А еще я им говорю, что умею летать. Конечно, они не верят, смеются с меня, но на этом начинается наше общение. Понимаете, дети в состоянии болезни уже другие. Они верят в то, что я знаю немножко больше их и чувствую Бога. Потому что у меня одежки специальные и крест большой. Верят, что я их не обману, потому что постоянно улыбаюсь и нахожусь рядом с ними.
Ребенок проходит долгий и сложный путь болезни. Это не пару таблеток принять, а курс химиотерапии и кучу-кучу всего. И когда ты приходишь к пятилетнему мальчику или девочке, а они тебе про КТ, МРТ и катетеры рассказывают и показывают следы от этого всего, понимаешь: они не поверят в то, что ты супергерой. Детки больше поверят в то, что ты просто человек. Редко бывает иначе. Только под морфином, но это уже другой вопрос.
Обычно я с ними просто разговариваю. Если они готовы говорить о смерти, – говорим. Не готов – даже не трогаем эту тему. Значит, не созрел еще.
С родителями та же история. Они избегают вопросов о смерти – верят в чудо до последнего. И моя задача – проработать с ними план на случай, если мы проиграем. Ведь когда ребенок уйдет, решать вопросы о его погребении в состоянии шока будет невозможно. Таких разговоров немного из общего числа, и они безумно сложные. Потому что в соседней комнате еще живой ребенок, а вам нужно обсудить, что делать после его смерти.
…Помню такой случай зубодробительный. Я причащал пятилетнюю девочку, у нее была опухоль мозга. Крайняя стадия. Она лежала в соседней комнате в то время, как родители решили обсудить план действий, когда малышки не станет. Говорят мне: “Мы платье ей показали, ей понравилось”.
Я в ступоре: “Какое платье?” Они: “В котором хоронить будем”. И у меня сразу диссонанс: ребенок сам себе выбрал платье на погребение. Спустя неделю я ее отпевал в этом платье…
Как бы это странно не звучало, но моменты с такими детьми дарят очень много радости. У меня есть девочка, которую я навещаю. Ее зовут Аня, ей три и у нее онкология. Но она такая жизнерадостная! При знакомстве она назвала меня Крестов, потому что у меня большой крест. Недавно пришел к ней, а Аня мне показывает своих “бонстиков” (коллекция миниатюрных игрушек – Sputnik) и заявляет: “Крестов, а почему ты не спрашиваешь: “Анечка, что это у тебя за чувачки?”
Была умирающая 12-летняя девочка. Она со мной не разговаривала все три недели, что я ходил в ее десятую палату. Ни капли не реагировала, это был театр одного актера. Прихожу к ней на третьей неделе – привет, как дела. Уже не ожидая никакой реакции, автоматически отвечаю на вопросы, которые сам же и задаю. Она молчала-молчала и потом (я уже собирался уходить) как выдаст: “А ты красивый”. Я говорю: “Ну ты тоже красивая”. А на следующий день она умерла…
Был еще ребенок в паллиативном центре, который перед уходом посмотрел мне в глаза и сказал: “А знаешь, я больше не боюсь”. Причем, он был адекватный, не под морфинами. Почему он так резко это сказал, непонятно.
На самом деле дети – это что-то такое непредсказуемое. Я сопровождаю и взрослых, но они уходят по-другому. У священников, кто отпевает, есть красивые слова: ребенок уходит, как чистая птица.
Понимаете, общение с детьми, их непосредственность, такое открытое состояние сердца – оно тебя просто поднимает. Ты понимаешь, что это существо без фальши. Мы привыкли жить в мире масок, игры, лукавства, какого-то расчета. У детей же этого нет.
Я плачу. Часто. Когда никто не видит. Обычно, закрывшись в машине. Плачу… Это неизбежная деформация, которая происходит, так как я нахожусь в зоне, где победы не будет. Наша победа – это качество жизни, но не выживание.
Я не борюсь со смертью, потому что я не могу победить ее. Я не борюсь с болезнью, потому что я не доктор и не иммунитет человека. Я могу делиться теплом, быть рядом и быть опорой, когда это необходимо.
Я помню всех детей, которых отпел, помню все моменты их ухода. Предсмертные хрипы, звуки и запахи, дыхание… Знаю все кладбища, где лежат дети, которых я отпевал. Это не выбросить из головы, оно живет во мне. И бывает так, что накрывает. Когда образы идут один за одним, и ты не можешь с этим ничего поделать. Тогда я плачу, и это нормально. Но этого не видит никто.
Задача священника – эмпатия, глубинное погружение и сопереживание. Если этого нет, то лучше не стоит за это браться и туда идти. Это нормально, в этом смысл священнического служения. Не просто кадилом махать, а погружаться, ощущать боль, сопереживать, травмироваться вместе с людьми. Господь в этом мире устроил так: если радостью делишься, ее становиться больше, если болью – меньше. Это закон психического равновесия.
И с детьми, и с родителями нужно быть честными и открытыми. И если ты на каком-то этапе сопровождения был нечестен или дал ложную надежду, то у тебя обязательно за это потом спросят у детского гроба. Меня часто спрашивают, бывают ли чудеса. Говорю честно: за все время моего хосписного служения не было. Дети уходят.
Но чудеса, может быть, не в том, чтобы они излечились. Я видел разные ситуации, как уходили люди – кто-то спокойно, а кто-то с дикими болями по 10-балльной шкале. Была ситуация, когда у ребенка по шкале боли должно быть 9-10, но Господь его забрал перед началом этих болей, не дав ему страдать. Разве это не чудо?
В некоторых западных странах применяют эвтаназию, хотя с точки зрения Церкви, это неприемлемый момент. Во-первых, в таком случае мы берем на себя функцию Бога, которую по идее брать не должны. Во-вторых, если признаем эвтаназию, то нам надо признать и такую особенность, что кто-то должен привести ее в действие. В-третьих, если мы говорим об эвтаназии с точки зрения богословия, то это как преждевременные роды.
На данном этапе паллиативная медицина при грамотном подходе может обеспечивать безболезненный уход. О применении эвтаназии может говорить только тот, кто видел или чувствовал, как это бывает больно и страшно. Вся остальная полемика вокруг этой темы, которую ведут здоровые люди со здоровыми людьми, – детский сад.
Меня очень радует, что мы смогли сделать как в хосписе, так и в паллиативном центре, все сопровождение умирающих, начиная от момента знакомства и заканчивая погребением, панихидами, бесплатным. Родителям деток не нужно искать священника, думать о том, сколько дать батюшке и так далее.
Часто Церковь обвиняют в том, что мы помешаны на деньгах, что у нас церковный бизнес. С детками все иначе. Не брать деньги – принципиальный вопрос, и от этого ощущается какое-то единение. Родители проникаются доверием еще больше. Даже если потом они хотят пожертвовать, мы не берем ничего.
У меня есть страничка в Instagram, чтобы продвигать тему хосписного служения. Чтобы быть ближе к людям, завел и другие соцсети, но Telegram и TikTok освоить так и не смог.
К сожалению, негативное отношение нашего общества к священникам постоянно ощущаю. Когда периодически приезжаю в кафе пообедать, замечаю, что меня фотографируют. Спрашиваю у людей, зачем они это делают – так не знают, что ответить.
Как-то дочке покупал термометр в аптеке, а за мной мужик записывал в Instagram “сторис” с комментариями : “смотрите, тут поп стоит и что-то покупает”. А мужик в трамвае однажды плюнул мне на подрясник и убежал. С тех пор всегда имею в храме запасной подрясник.
Я хожу в церковном облачении всегда и везде, кроме тренировок (отец Роман занимается кроссфитом – Sputnik). В зале неудобно в подряснике.
Нам просто не хватает человечности друг к другу. Священник – такой же человек, как и все. И отчасти порой даже хуже. Ведь когда человек знает, как правильно, но не делает этого, с него спрос строже. Это и касается священников. Если мы будем среди остальных людей, между нами не будет дистанции, все будет нормально.
Станислав Лобатый, корреспондент Sputnik Беларусь
Фото: Виктор Толочко
По материалам сайта m.sputnik.by