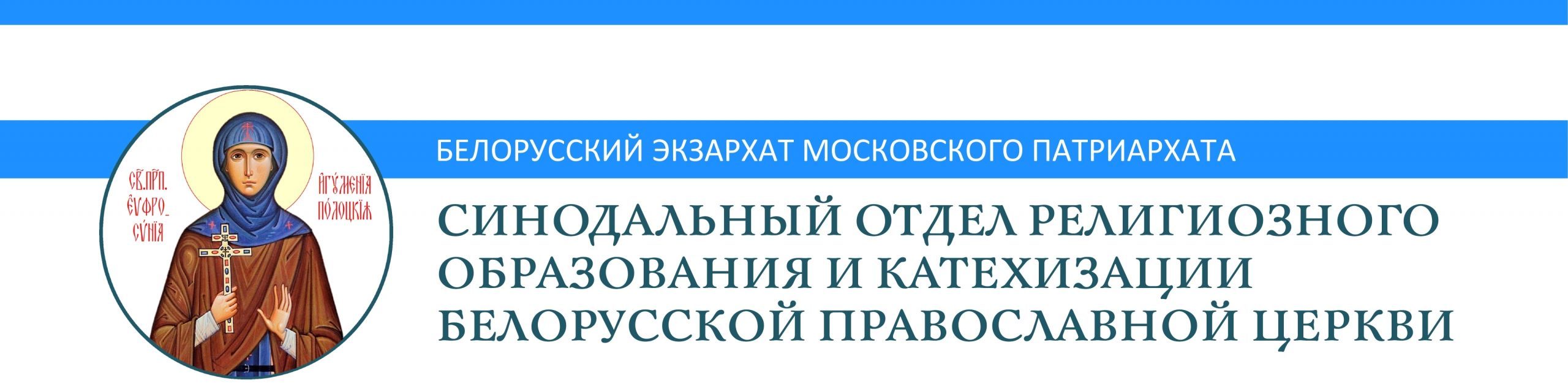Алла Анатольевна Строганова, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы, о христианских мотивах в творчестве Чарльза Диккенса – к 210-летию со дня рождения писателя.
Произведения величайшего английского романиста Чарльза Диккенса (1812–1870), столь любимые в России уже с 1830-х годов – с появления первых переводов на русский язык, сегодня, к сожалению, не входят в джентльменский набор настольных книг современных читателей.
Наши подростки, увлечённые компьютерами и видеоужасами, в лучшем случае с недоумением пожмут плечами. Интеллектуалы-скептики иронически заявят о розовом утопизме и сентиментальности, запутанности сюжетов, возведут в главный грех неизменный “happy end” диккенсовских романов.
Но оценки эти не новы. К примеру, революционно настроенную критику в России постоянно раздражала «мещанская сентиментальность» Диккенса. Известно воспоминание Н.К. Крупской о том, как «Ильич не выдержал», покинул театр во время постановки повести «Сверчок за очагом» – одной из самых добрых и уютных в цикле рождественских повестей Диккенса.
Однако всё это только скольжение по поверхности. И тысячу раз прав Гилберт Кит Честертон, автор одной из лучших монографий о Диккенсе, в своём утверждении, что английский романист признан «королём, которого можно предать, но свергнуть уже нельзя». «Каким бы ни был диккенсовский отпечаток на мягкой глине нашего поколения, глубина его такова, что он спокойно сносил накаты времени», – писал Генри Джеймс.
Надо только открыть книгу Диккенса, и тогда даже самый предубеждённый критик почувствует не отталкивание, а магическое притяжение, ощутит тепло, исходящее от текста, словно от горящих поленьев. Ведь, по справедливому суждению Честертона, «Диккенс, превосходный писатель, способный вызвать участие у самого опытного читателя, способный у предубеждённого вызвать слёзы…»
Духовное просветление наступает всегда, потому что этот выдуманный художественный мир, причудливый и трогательный, на удивление отвечает нашим реальным жизненным стремлениям к внутренней гармонии и равновесию, нашей затаённой надежде на то, что мы сможем преодолеть отчаяние, что душа человеческая выстоит, не погибнет, несмотря ни на что. Честертон замечает, что Диккенс создал «мир истинный, в котором душа наша может жить».
Чтение современной литературы – в лучшем случае короткий антракт в нашей жизни. Но в дни, когда выходили «Записки Пиквикского клуба», люди «считали антрактом жизнь между очередными выпусками».
Огромно влияние Диккенса не только на читателей, но и на писателей. Как утверждал Генри Джеймс, «мы снимали с него поистине золотой урожай всевозможных ссылок и ассоциаций». «Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников», – утверждал в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевский. Он также оставил о Диккенсе, которого называл «великим христианином», глубоко личное признание: «Никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель».
Действительно, английский романист – один из самых родственных русской литературе зарубежных авторов. Так, Л.Н. Толстой ценил его как писателя безошибочного нравственного чутья. Достоевский, Толстой, Лесков видели в Диккенсе своего союзника. В.Г. Короленко создал трогательные воспоминания о своём первом вхождении в диккенсовский мир. С.М. Соловьёв, внук знаменитого историка С.М. Соловьёва, племянник поэта и философа Вл. Соловьёва, называл «диккенсовским циклом» свои стихотворения, навеянные образами английского романиста. Завораживающее влияние диккенсовского романа – в стихотворении О. Мандельштама «Домби и сын».
Примеры можно множить и множить. «Случай с Диккенсом» описал в одноименном рассказе К.Г. Паустовский, проникновенный мастер лирически хрустальной русской прозы. Даже в художественном сознании всенародно любимого певца русской природы, русской деревни, русской души Сергея Есенина вдруг оживает диккенсовский образ:
Мне вспомнилась печальная история –
История об Оливере Твисте.
«Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд» или, возможно, любой другой роман по выбору предлагала изучать программа факультатива по литературе. Пусть даже факультатив, но главное – приобщить, приохотить к чтению книг Диккенса, в которых так хорошо живётся душе. Вполне вероятно, что впоследствии это поможет подростку в укреплении взаимного доброжелательства и мира в отношениях с людьми и самим собой.
Диккенс, как никто, умел понять детскую душу. Тема детей и детства в творчестве писателя – одна из важнейших. «Будьте как дети» – эта заповедь Христа оживает в художественном мире Диккенса, в мире, где бьётся его собственное сердце, сохранившее детскую непосредственность и веру в чудо.
В маленьких героях своих романов писатель отчасти воспроизводил и своё собственное детство, отмеченное лишениями и непосильными моральными испытаниями. Он никогда не забывал своё отчаяние, когда маленьким мальчиком работал на фабрике ваксы; стыд и унижение, когда обнищавшие родители угодили в долговую тюрьму Маршалси. Писатель психологически точно сумел передать самую суть детской ранимости. «Мы страдаем в отрочестве так сильно не потому, что беда наша велика, а потому, что мы не знаем истинных её размеров. Раннее несчастье воспринимается как гибель. Заблудившийся ребёнок страдает, словно погибшая душа», – замечал Честертон о диккенсовских героях-детях.
Но Оливер Твист («Оливер Твист») и в работном доме, и в воровском притоне сумел сохранить свою добрую душу, человеческое достоинство. Маленькая девочка-фея Нелл Трент, бредущая с дедушкой по дорогам Англии, находит в себе силы поддерживать и спасать близкого человека («Лавка древностей»). Отвергнутая родным отцом Флоренс Домби («Домби и сын») сохраняет свою нежность и чистоту сердца. Эти и многие-многие другие герои призваны, как и калека-малютка Тим из «Рождественской песни в прозе», напомнить людям о Том, «Кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими».
«Дэвид Копперфилд» – роман, написанный от первого лица, во многом автобиографический. По отзыву Дж. Б. Пристли, это «истинное чудо психологической прозы». «Главную неиссякаемую силу “Копперфилда” составляет детство Дэвида <…> в литературе и по сей день нет лучшего изображения детства. Здесь есть игра теней и света, присущая началу жизни, зловещей тьмы и лучезарной, снова возникающей надежды, бесчисленные мелочи и тайны, подслушанные у волшебной сказки, – с какой тонкостью и совершенством всё это написано!»
Без сомнения, увлечёт юных читателей и история любви Дэвида к Доре – по словам Ч.П. Сноу, «одно из лучших описаний юношеской любви в мировой литературе».
Одна из финальных глав романа, венчающая обширное, масштабное повествование-хронику, называется «Свет озаряет мой путь». Источник света здесь – символический. Это духовный свет, кульминация внутреннего возрождения героя после пережитых испытаний: «И в памяти моей возникла длинная-длинная дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел маленького, брошенного на произвол судьбы оборвыша…» Но былой мрак сменяется «светом в конце тоннеля» – такова внутренняя художественная логика произведений Диккенса. Герои, наконец, обретают полноту счастья: «сердце моё так полно <…> Мы плакали не о минувших испытаниях, через которые прошли <…> Мы плакали от радости и счастья».
Знаменитые диккенсовские счастливые концовки основаны на вере писателя в непобедимое торжество добра как скрытой пружины жизни, в идеалы Нового Завета, в Нагорную проповедь Христа. И главное в вере Диккенса – «религия сердца».
«Ведь для Диккенса – это словно вопрос чести – не дать победы злу». Можно подумать, что Диккенс испытывал особую творческую радость, заставляя медлительное Провидение поторопиться, распоряжаясь несправедливым миром по закону справедливости.
Академик Д.С. Лихачёв называл Диккенса в числе «семейных писателей», «которых читали в семье, обсуждали всей семьёй <…> которые имеют огромное значение для нравственного формирования человека». Действительно, Диккенс всегда призывал беречь свой дом, укреплять свою семью. Неслучайно его называли «глашатаем радостей семейного очага». Дом, семья у Диккенса становятся священным местом, вмещают целую вселенную: потолок – это свои «родные домашние небеса», по которым плывут облачка от дыхания чайника; сверчок за очагом – домашнее божество, очаг – алтарь, дом – храм.
В обращении к читателям в диккенсовском еженедельном журнале «Домашнее чтение» были такие слова: «Мы смиренно мечтаем о том, чтобы обрести доступ к домашнему очагу наших читателей, быть приобщёнными к их домашнему кругу». К семье своих читателей автор относится столь же тепло и доверительно, как и к своей собственной – в десять детей – семье: «Ох, помилуй нас, Боже, мы так уютно уселись здесь в кружок у огня!» И кто бы что ни говорил, чудом и благодатью своего мира Диккенс способен изменить нас: скучающие развеселятся, плачущие – утешатся.
В рождественской повести «Колокола» писатель выразил свою пламенную веру в прогресс, в поступательное движение времени, которое должно привести человечество к совершенству: «Голос времени, – сказал Дух, – взывает к человеку: “Иди вперёд!” Время хочет, чтобы он шёл вперёд и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось время и начался человек». Этот призыв к нравственному усилию, к решительному движению по пути совершенствования остаётся не менее, но даже более актуальным.
Об удивительной современности классика замечательно высказался Г.К. Честертон в своей новелле «Любитель Диккенса»: «С Диккенсом искателю древностей делать нечего, поскольку Диккенс – не древность. Он смотрит не назад, а вперёд. Да, он мог бы взглянуть на эту толпу с насмешкой или яростью, но он был бы рад на неё взглянуть. Он мог бы разбранить нашу демократию, но лишь потому, что был демократом и требовал от неё большего. Все его книги – не “Лавка древностей”, а “Большие надежды” <…> Ангел у гроба сказал: “Что ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес”».
oroik.by