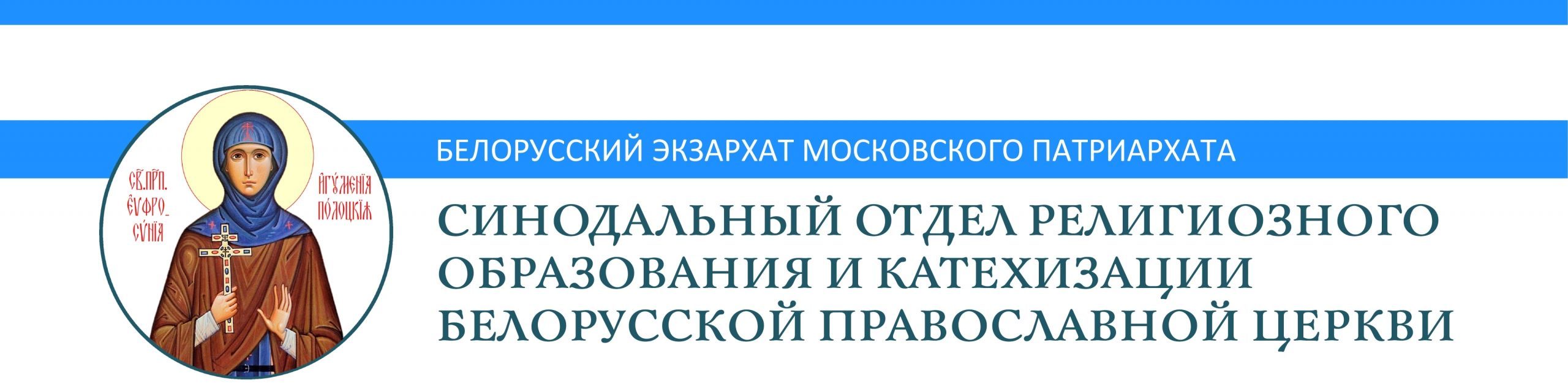В продолжение темы конференции «Жизнь Русской Церкви в эпоху гонений», прошедшей 1 декабря 2021 года в Москве, сайт ПСТГУ начинает публикацию серии интервью с преподавателями Университета, чья юность пришлась на 1950–1960-е годы. Первый собеседник – заведующий кафедрой новейшей истории Русской православной Церкви и канонического права священник Александр Щелкачев.
Отец Александр, Вы окончили МГУ в 1964 году – это год завершения так называемых хрущевских гонений, характеризующихся жестким идеологическим давлением. По Вашим студенческим воспоминаниям, было ли это время серьезным испытанием для веры?
Начну с любопытного рассказа. Еще до падения Хрущева, в 1960 или 1961 году, к своему старцу пришел молодой послушник и сказал, что он стал колебаться в вере и не знает, что делать. Тот ему дал послушание – прочитать за год все номера журнала «Наука и религия». Он выполнил послушание, приходит и говорит: «Больше у меня нет сомнений. Я укрепился в вере». Дело в том, что сама антирелигиозная пропаганда была глупая, отталкивающая и серьезным соблазном для верующего человека не могла быть.
В юности у меня самого появились какие-то сомнения в вере, я даже думал, не перестать ли молиться, – но не из-за внешнего давления, а по другим причинам. Недоумения и вопросы возникли, когда я читал Рассела[1] (любопытно, что его переводил Николай Владимирович Воробьев[2]). Как-то, еще будучи первокурсником, в беседе с будущим отцом Владимиром Воробьевым я поделился этими своими мыслями и сказал, что не считаю обоснованным какой бы то ни было атеизм, но проблема в том, что нет достаточных рациональных аргументов в пользу православной веры. Тогда он мне сделал очень важное замечание: «Если бы ты занялся этим более серьезно, то сам, наверное, нашел ответы на все эти вопросы». Я ему ответил, что, может быть, и так, но меня сейчас больше интересуют вопросы научные. Тогда он сказал, что этот вопрос самый важный и его нельзя откладывать, предпочитая другие занятия. Потом я прочитал книгу некоего англичанина «Введение в метаматематику», там говорилось о теореме Гёделя, и я вдруг понял, что требуемых доказательств существовать не может в принципе. Потом прочитал «Диалоги» отца Валентина Свенцицкого и, благодаря молитвам близких людей, больше уже к этим вопросам не возвращался.
Но в вузах преподавался научный атеизм, и надо было его сдавать. Был как раз 1964 год, и меня очень беспокоило, как я буду сдавать этот зачет. Решил ходить на все лекции. Как оказалось, недаром, потому что, не ходя на лекции, я мог бы сказать на зачете что-то «не то» с точки зрения лектора. Например, на лекциях совершенно безграмотно утверждалось, что нового священника может рукополагать епископ или священник. Когда я пришел на зачет, там был лектор и какой-то молодой парнишка. Я не выбирал, к кому пойти, но оказался у него. Помню, что он задавал вопросы о том, как Церковь приспосабливается к каким-то условиям, о сотворении Вселенной во времени. Как только я начинал говорить, он меня пресекал: «Правильно, правильно!» Я подумал, что это странно, что зачет так быстро идет, и решил более подробно ответить на вопрос, касавшийся теоретической физики. Но тут мой экзаменатор, который, как я потом понял, совершенно в этом ничего не понимал, вдруг побледнел и стал говорить: «Неправильно! Неправильно!» Я же был уверен в теме и не понимая, что тут может быть неправильно, ведь я только что успешно сдал экзамен по физике, продолжал отвечать, несмотря на его беспокойное «Неправильно! Неправильно!». К счастью, когда дело дошло до эффекта Допплера, мой экзаменатор, услышав знакомое выражение «красное смещение», опять оживился и начал говорить: «Правильно, правильно!» Таким образом наш разговор благополучно закончился, а зачет был получен.
Так что у меня проблем со сдачей этой дисциплины не возникло, но я знаю, что были и другие ситуации. Например, у ныне покойного отца Валерия Бояринцева (он учился в медицинском институте) на зачете выяснили, что он верующий человек, и ему не позволили окончить институт. Он должен был уехать в Ташкент, чтобы там закончить вуз. Впоследствии, несмотря на возникшие препятствия, он стал прекрасным врачом.
У Вас на курсе были такие случаи?
Было видно, что некоторых очень беспокоит то, что будут проверять их убежденность, но в моем выпуске я не знаю такого рода конкретных случаев.
В этом отношении интересно другое, и я люблю об этом вспоминать. Как-то собрались у нас дома за одним столом мой папа и будущий отец Алексей Емельянов. Дело в том, что папа был первым, кого в МГУ на физико-математическом факультете не допустили к поступлению в аспирантуру по идеологическим соображениям, хотя он был рекомендован. А отец Алексей Емельянов оказался, напротив, последним, кому в 1986 году в МГУ на мехмате сказали, что он хороший молодой человек и ему желают успеха, но в аспирантуре его оставить не могут, хотя он тоже был рекомендован.
И в довоенные годы, и после войны нередки были случаи появления ренегатов. Вам приходилось встречаться с людьми, публично отрекшимися от веры?
Об этом много говорили, сам я с такими людьми контакта не имел. В послевоенное время отречений от веры было значительно меньше, даже во время хрущевских гонений. Известные случаи – это скорее люди засланные, некоторых из них власти очень «рекламировали». Была нашумевшая история Александра Осипова[3], который в конце 1950-х годов, в начале хрущевского гонения, отошел от Церкви. Теперь стали доступны его письма, из которых видно, что он стал сексотом гораздо раньше, еще до Великой Отечественной войны. При этом многие, кто исповедовался у него, когда он был еще священником, говорили, что он оставлял очень хорошее впечатление.
Была распространенной ситуация, когда священник, овдовев, хотел снова вступить в брак, и тогда он слагал с себя сан. Например, был молодой священник, крестник Патриарха, с ним произошла именно такая история. Когда он собрался уходить, Патриарх Алексий I сказал ему: «Что ж поделаешь? По крайней мере, ты не ври там». Но он этого правила не придерживался и даже после распада Союза долгое время был пропагандистом. Я слышал, что потом где-то в Риге он покаялся и снова вернулся в лоно Православной Церкви.
На послевоенные десятилетия приходится юность людей, в массе своей совсем не знавших веры, выросших в отрыве от религиозной традиции. Тем не менее в те же десятилетия заметен – вопреки официальной позиции партии и пропаганде – усиливающийся интерес молодежи к вере, христианству, Церкви. Какие есть объяснения этому процессу?
Конечно, были молодые люди, которые получали церковное воспитание в семье. В качестве примера можно привести воспоминания Николая Евграфовича Пестова, дедушки отца Николая Соколова, о его сыне Николае, который погиб в Великую Отечественную войну[4]. Но, в отличие от этого молодого человека, большая часть молодежи в вере не воспитывалась. Даже от верующих людей иногда можно было услышать такое: «Меня до революции воспитали в вере, я лично не могу с ней порвать, но молодому поколению лучше о вере не говорить, тогда они будут жить счастливо». Но это желание взрослых защитить своих детей от внешних невзгод по сути было провальным. То идейное наполнение, которое предлагала советская власть, не могло удовлетворить ищущего человека – об этом, например, свидетельствуют настроения на комсомольских собраниях в 1960-е годы и позже.
На комсомольских собраниях многие энтузиасты-комсомольцы говорили, что никто не живет в комсомоле как следует, что надо больше заниматься общественной работой, что будет лучше, если в комсомоле останутся только энтузиасты. Но это было совершенно невозможно: наверху прекрасно понимали, что большинство – и в комсомоле, и в партии – составляют как раз не энтузиасты, поэтому старались поддерживать эту ложь и режим, основанный на лжи, будто бы все глубоко веруют в коммунизм. Примечательно, что многие из тех идейных людей, кто хотел возродить «подлинный комсомол» 1920-х годов, позже оказались в рядах диссидентов.
К 1980-м годам для многих молодых людей пребывание в комсомоле было совершенно формальным. С одной из прихожанок Кузнецов – матушкой Екатериной Эберт (в замужестве Емельяновой) – во второй половине 1980-х годов был забавный эпизод. Ей в вузе предложили вступить в комсомол, и она пыталась отказаться, сказав, что у нее трудности дома, что она недостойна и т. д., но ей твердо сказали, что она должна стать комсомолкой. Тогда она, видя, что ничего не получается, прямо сказала, что является православной верующей, на что ей ответили: «Мы тут все православные верующие, вступай в комсомол – тема закрыта». Она спросила у отца Владимира, что ей делать, и он ответил, что, раз ты так прямо сказала и это их не остановило, что же тут поделаешь, ты свой долг выполнила.
Для многих переломным моментом стало разоблачение культа личности в середине 1950-х. Еще со школьных лет мне запомнился такой эпизод. Я старше своего брата Михаила на 5 лет. Мы оба учились в 59-й школе в Староконюшенном переулке. В классе где-то между нами учился впоследствии известный диссидент Владимир Буковский. Он был сыном советских дипломатов и вроде бы должен был получить соответствующее воспитание, но, как и многие, после разоблачения культа личности задался вопросом: почему, если творились такие беззакония, все молчали? Буковский решил вместе со своими единомышленниками выпустить стенгазету, где подобные вопросы были поставлены очень остро. Учителя перепугались насмерть и не знали, что говорить и как реагировать – прибежали и начали кричать на этих ребят. А те спокойно отвечали, что не могло быть так, чтобы порядочные люди просто это все терпели. Чем больше кричали учителя, тем больше эти парни чувствовали себя героями. Они видели, что и девицы с интересом смотрят на это геройство. Потом Буковский из школы ушел, его родителей выгнали из партии. Впоследствии я узнал знаменитое «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана»[5], – оказалось, что он и был тем «хулиганом». А в нашей школе после этого разогнали педагогический коллектив и поставили особо идейных директоров.
Есть исторический закон, который открыл историк Коллингвуд, потомок адмирала, который был помощником Нельсона в битве при Трафальгаре. Закон этот говорит, что, когда в каком-то народе пытаются искоренить старые обычаи, это в действительности косвенно содействует их сохранению в народной памяти в виде некоего негатива. Он приводит пример Германии 1930-х годов, воинственного народа, который потерпел поражение: если этому народу все время внушают, что милитаризм – это безобразие, то постепенно начинает возникать подсознательное ощущение, что если бы милитаризм был таким скверным и в нем не было бы ничего соблазнительного, тогда, наверное, он не был бы когда-то господствующим. Усиленно что-то ругая, нередко способствуют сохранению этого в памяти людей. Если новые обычаи преуспевают, тогда старые отмирают. Но если же наоборот, новое оказывается провальным, тогда старое с этого негатива удивительно легко восстанавливается. По-моему, отчасти то же самое, по Промыслу Божиему, и у нас произошло, когда партийное учение провалилось и люди стали возвращаться к вере – в том числе, молодые люди. Они читали богословскую литературу, общались и создавали христианские кружки.
Сложно ли было в 1960-е годы достать книги богословского содержания, святоотеческие тексты, Священное Писание?
Действительно, найти какие-либо богословские книги было очень трудно – даже Евангелие. Но у меня книги были. Мой духовник, игумен Иоанн (Котляревский), передал мне полное собрание Владимира Соловьева, оно и теперь у меня. Были у меня также сочинения владыки Афанасия (Сахарова), «Диалоги» священника Валентина Свенцицкого и многое другое.
Библиотека моего отца не сохранилась: мы перед войной жили в Днепропетровске, и, когда оттуда пришлось срочно эвакуироваться, всё пропало. Научную литературу я мог найти в библиотеках, больше ничего не было. Но я мог пользоваться библиотекой Александра Борисовича Салтыкова – он собрал замечательную, совершенно уникальную библиотеку. У некоторых людей были такие собрания книг. Правда, на этом можно было «погореть», если слишком широко давать их читать.
Иногда материалы по теме веры можно было найти в научных библиотеках. Помню, когда мне нужно было в аспирантуре делать доклад (у нас был спецсеминар по философии), я взял тему о том, зачем философия нужна физикам. Я думал, что действительно могу говорить, что она нужна (только особенно не акцентировал, какая философия). В то время мне удалось получить книгу Гейзенберга «Физика и философия»[6], тогда вышло первое издание, в нем не было второй части, которая добавлена сейчас. Книга предназначалась только для научных библиотек (на ней стоял гриф «Для научных библиотек»); я смог ее получить, так как был аспирантом. На меня некоторые мысли Гейзенберга произвели сильное впечатление. У нас все время говорили о «темном Средневековье», о том, как религия привела к падению научного знания, а он писал, что кризис естественных наук начался, по крайней мере, за 150 лет до Рождества Христова и причины его совершенно иные. Когда он говорит об этом «темном» средневековом периоде, то объясняет, что в это время все внимание великих мыслителей было сосредоточено на душе человека и его отношении к Богу, а не на внешнем мире. А потом, по ряду причин, люди снова обратились к природе. Это было удивительно: вместо «темного Средневековья» – душа человека, и это говорит создатель квантовой механики.
С этим докладом был забавный момент. У моего отца была книга позитивиста Филиппа Франка. Я пролистывал ее и в предисловии увидел цитату «какого-то» испанца, Ортега-и-Гассета, который пишет, что философия нужна всем. Что мелочиться? – Я эту цитату вставил в свой доклад. Преподаватель увидел ее, улыбнулся: «Цитата хорошая, только этот Ортега-и-Гассет фалангист[7]». А я совсем не знал, что он фалангист, и спокойно его использовал – ведь его цитата была в предисловии Филиппа Франка, который у нас был переведен и издан.
Так что многое можно было прочитать и узнать, если серьезно за это взяться. С конца 1960-х стали появились христианские кружки и семинары – известные и полуизвестные, в которых люди стремились получить основательное знание. Так, был кружок у Александра Огородникова[8], собирались таким же образом и чада отца Александра Меня.
А Вы посещали такие кружки?
Не было необходимости, потому что у нас был собственный кружок. Он возник в конце 1960-х по благословению отца Всеволода Шпиллера: вскоре после того, как он стал духовником отца Владимира Воробьева. Николай Евгеньевич Емельянов предложил, чтобы мы собирались у него дома и делали сообщения на разные богословские темы. В основном приходилось рассказывать мне, потому что у Николая Евгеньевича, отца Владимира и Андрея Борисовича появились дети, а у отца Александра Салтыкова тяжело болела мама. Тогда я взял у отца Александра «Деяния Поместного собора»[9]. Сейчас они переизданы, а тогда это было уникально, что где-то сохранились целиком протоколы пленарных заседаний собора. Я изучил их от корки до корки и рассказывал о содержании этих материалов на наших встречах. Я был пленен языком этих выступлений и не отваживался передавать впечатления от собора своими словами, это казалось невозможным: там выступали люди, прекрасно владеющие словом, поэтому я зачитывал фрагменты речей митрополита Антония (Храповицкого), Илариона (Троицкого), возникавших на соборе дискуссий и дебатов, переговоров с Керенским насчет преподавания Закона Божия, и давал комментарии. Зачитывать оригинальные тексты стоило и по другой причине: если чей-то взгляд вызывал у меня отчуждение, лучше, чтобы люди услышали, какую чушь говорил этот человек от него самого, чтобы это было изложено его собственными словами. Иногда эти тексты вызывали такие сильные отрицательные эмоции, что это мешало честно передать смысл речи, в таких случаях всегда хотелось процитировать источник.
На наших собраниях в разное время бывало от пяти до десяти человек. Ядро кружка составляли отец Владимир (он уже к тому времени был женат на матушке Ольге), отец Александр Салтыков, Николай Евгеньевич Емельянов[10], Андрей Борисович Ефимов[11]. Но иногда появлялись и другие люди. В какой-то момент к нам присоединился отец Валентин Асмус, он был диаконом, чуть младше нас по возрасту. Помню, как мы как-то с ним возвращались из Чертаново и по дороге обсуждали актуальные темы отношений с Римо-католической Церковью, итоги Второго Ватиканского собора.
Мы собирались относительно регулярно – чаще, чем раз в месяц. Иногда получалось встречаться даже каждую неделю. Когда стали рождаться детки, занятия постепенно стали сходить на нет, но, когда у Воробьевых и Емельяновых дети стали подрастать и у родителей появилось больше свободы, кружок возобновился. В начале 1980-х отец Владимир, который к тому времени уже стал священником, собрал из своих прихожан и друзей новую группу. Мне он снова предложил рассказывать про Поместный собор. Эти встречи проходили на квартире Емельяновых. В этом кружке было уже довольно много людей – до 20 человек, многих я не знал, это были чада отца Владимира и отца Дмитрия Смирнова. Посещал эти встречи и сам отец Дмитрий, будущий отец Александр Ильяшенко, моя супруга Ирина бывала там, Владимир Богачев[12] и его супруга Анна Емельянова[13] – в основном, научные работники разных институтов.
Потом появились сведения, что в определенных кругах коммунистической партии собираются взяться за эти кружки и что за то, что мы их устраиваем, нам может крепко «нагореть». Прежде всего речь шла о более открытых семинарах – как у Александра Огородникова. У нас все-таки был домашний, очень закрытый кружок, только близких людей привлекали, но все равно отец Владимир сказал, что временно мы работу этого кружка прекращаем. Это было еще до кончины отца Всеволода.
В вашем кружке 1960-х годов занятия проводились в основном по церковной истории или касались и других богословских дисциплин?
Нет, разбирали не только вопросы церковной истории. Часто проводились библейские занятия. Запомнилось, что отец Владимир рассказывал, как святитель Иоанн Златоуст объяснял, почему царь Озия был наказан проказой. Разные были доклады, но церковной истории было много. Николай Евгеньевич разбирал церковно-общественные темы, очень любил рассказывать о русских князьях. Он был одним из активных деятелей патриотического клуба «Родина» и с удовольствием поднимал темы по русской истории.
Интересовались мы и древней Церковью, затрагивали темы Вселенских соборов, при этом пользовались книгами В. В. Болотова и тем, у кого что было. Я как-то у Андрея Борисовича на 43-м километре нашел деяния Вселенских Соборов – сейчас они переизданы, а тогда их было непросто достать. Мы читали источники и потом обсуждали их. В какой-то момент поняли, что в библиотеке Александра Борисовича Салтыкова, которой к тому времени распоряжался отец Александр, можно найти практически всё: это была громадного объема библиотека.
Можно ли сказать, что эти кружки стали предшественником богословских курсов? Не там ли зародилась идея Богословского института и его исследовательской деятельности?
Можно сказать, что идея зародилась раньше, на наших встречах с Михаилом Ефимовичем Губониным[14]. В феврале 1962 года, когда мы в середине второго курса поехали на зимние каникулы в Ленинград, мы все втроем (с будущими отцом Владимиром Воробьевым и отцом Александром Салтыковым) познакомились с Николаем Алексеевичем Беляевым (я и раньше с ним был знаком)[15]. Мы увидели у него книжку митрополита Елевферия «Неделя в Московской Патриархии»[16] и с интересом ее прочитали. Николай Алексеевич сказал, что, если мы интересуемся историей Русской Православной Церкви первых послереволюционных десятилетий, он может нас познакомить с Михаилом Ефимовичем Губониным. И, когда Николай Алексеевич по делам приехал в Москву – в феврале или марте 1962 года, – он сразу нас повел на ту квартиру, куда я и сейчас езжу к Зое Петровне, супруге Михаила Ефимовича. Так мы с Губониным познакомились и обычно дважды в месяц к нему приходили. Он нам рассказывал о своих исследованиях, делился воспоминаниями.
Позже Михаил Ефимович завещал нам свои труды. У моего отца была секретарша Лариса Михайловна, она могла их перепечатать. Она отпечатала шесть экземпляров, и Михаил Ефимович каждому дал по экземпляру. Распределяли их по жребию. У меня был, наверное, самый неудачный – шестой. С этими распечатками была потом история: однофамилец отца Владимира Михаил Воробьев увлекся диссидентством и передал эти материалы Регельсону[17]. В своей книге по церковной истории Регельсон пишет, что КГБ у него что-то отобрало, а потом Господь послал «богатые материалы» – имелись в виду именно тексты Михаила Ефимовича, переданные Регельсону Михаилом Воробьевым. На западе многие источники, собранные Михаилом Ефимовичем, были неизвестны и произвели впечатление. Об этом упоминал как-то и отец Иоанн Мейндорф.
Была ли у Вас возможность в студенческие годы и после завершения Университета ходить в храм на богослужения?
Мы с папой часто ходили на богослужения, но до очень поздних времен я никогда не ходил на пасхальную службу, потому что там был особый режим. Причащались обычно дома: для этого приглашали священника – вначале отца Константина Корчевского, затем отца Александра Егорова. Так же – в домашних условиях – отец Константин крестил моего брата в 1946 году. Потом отец Константин куда-то уезжал, но с 1961 по 1964 год общение возобновилось: и он к нашей семье приходил, и я к нему ездил. В 1964 году отец Константин погиб в Страстную Пятницу: он приехал к знакомым послужить в каком-то сельском храме, а там произошел пожар (говорили, что это был поджог). Отец Константин был инвалидом – у него был деревянный протез, и, когда начался пожар, он не успел его подвязать к ноге и сгорел.
У моего отца в 1940-е годы, когда он только начинал заведовать кафедрой в Губкинском институте, был такой случай. У него на кафедре был доцент Николай Николаевич Капцов, верующий человек. Так получилось, что они оба дружили с парторгом Крыловым – несмотря на род деятельности, он был неплохим человеком. Как-то на Н. Н. Капцова пришел донос, что студенты его видели в храме, он там стоял и крестился. Папе пришлось с этим делом разбираться, но Крылов, у которого и на счет моего папы были подозрения, что он верующий, решил все это замять – иначе бы Николая Николаевича выгнали из числа преподавателей. Крылов сказал папе, что берет на себя риск написать, что проверка не подтвердила донос студентов, но просит передать совет: во-первых, ходить в разные храмы, а во-вторых, никогда не стоять на видном месте, а где-то сзади, чтобы его не могли увидеть. Этот совет они оба впоследствии старались выполнять.
В 1970-е годы я тоже ходил в разные храмы – их было около десяти: так, помимо храм Ильи Обыденного, я посещал храм Воскресения в Сокольниках, храм святителя Николая в Хамовниках, около Парка культуры, Новодевичий монастырь, Пименовский храм. Ходил и в Николо-Кузнецкий храм: когда против отца Всеволода Шпиллера началась кампания, я решил, что, если здесь организуется какая-то обструкция, сюда следует заходить почаще. Мне был известен отзыв владыки Ермогена (Голубева): он как-то сказал матушке отца Феодора Семененко, что считает отца Всеволода нашим лучшим протоиереем (матушка была из Ташкента и часто встречалась с владыкой Ермогеном[18]).
Однажды, когда я выходил из храма святителя Николая у Парка культуры, со мной поздоровался нищий – он очень любезно меня приветствовал, хотя я с ним никогда не общался. После этого я решил, что лучше ходить в храм Илии Обыденного, где служил мой духовник отец Александр Егоров, и в Кузнецы, потому что там мои друзья – лучше, чтобы нищие знали меня в двух храмах, чем будут знать в десяти. Так что эта практика хождения в разные храмы была прекращена.
Еще вспомнилась такая подробность: как мы ездили в то время в Загорск[19]. Отец Владимир советовал покупать билет не до Загорска, а до Семхоза – это та же самая зона. Просить билет до Загорска было опасно, так как привлекало внимание: почему это вдруг молодой человек едет в Загорск, что ему там понадобилось?
Отец Александр, Вы были инициатором издания нашим Университетом нескольких книг Надежды Александровны Павлович, духовной дочери оптинского старца Нектария. Когда и как Вы с ней познакомились?
В Москве мы были прихожанами одного прихода, при храме Илии Обыденного. Мой папа познакомился с Надеждой Александровной через отца Петра Гнедича[20], я сам о ней тоже немного слышал от отца Петра. Она обратилась к моему отцу и сказала, что ей хочется оставить какие-то свои архивы, и она была бы рада, если бы могла их мне передать. Она всегда была особенно расположена к людям, носившим имя Александр, – в свое время Надежда Александровна была близка к Александру Блоку, очень тяжело переживала его смерть.
Так мы с ней и познакомились – это была уже вторая половина 1970-х годов. Не думаю, что знакомство продолжалось больше 5 лет, в 1980 году она умерла. Надежда Александровна часто просила ей помочь: по воскресеньям я обычно брал такси, заезжал за ней и привозил ее в Обыденский храм, а потом отвозил обратно домой. Там она предлагала выпить с ней чая и побеседовать: Надежда Александровна делилась воспоминаниями об Оптиной пустыни, о старце Нектарии, вспоминала общение с митрополитом Вениамином (Федченковым) и другими архиереями. В то время митрополит Рижский Леонид (Поляков), которого некоторые диссиденты прочили в 1970 году в патриархи, был ее духовным наставником. Она также была связана с Анатолием (в монашестве Антонием) Мельниковым. Он был в Белоруссии митрополитом, а после смерти митрополита Никодима (Ротова) стал митрополитом в Ленинграде. В круг ее общения входил и архиепископ Пимен Волгоградский.
Кажется, под именем владыки Антония (Мельникова) были опубликованы некоторые статьи Надежды Александровны?
Да, под его псевдонимом. По инициативе владыки Антония и владыки Пимена (Хмелевского) Надежда Александровна написала жизнеописание святителя Николая Японского к его прославлению в 1970 году. Оно было опубликовано под именем митрополита Антония. Под его именем была издана и другая ее работа – «Победитель смерти». В его письмах упоминается, что подлинным автором является Надежда Александровна.
У Надежды Александровны сохранились письма многих архиереев – может быть, что-то со временем мы издадим. К сожалению, ее собственные письма пока достать не удалось. Ее переписка с митрополитом Вениамином (Федченковым) сохранилась и недавно была издана[21].
Кстати, выяснилось, что мой духовный наставник, игумен Иоанн (Котляревский), опубликовал в «Журнале Московской патриархии» несколько статей о святителе Феофане Затворнике, которые на самом деле тоже написала Надежда Александровна. Она, как член Союза писателей, сама публиковать богословские тексты не могла. Отец Иоанн не раз печатался в ЖМП, и как-то, когда он пришел в редакцию, редактор журнала А. В. Ведерников[22] предложил отцу Иоанну напечатать статью Надежды Александровны под своим именем.
Иногда утверждается, что вся иерархия была только конформистской. Но то, что они шли на риск и под своим именем печатали статьи других людей, можно рассматривать как форму сопротивления давлению властей.
Отец Александр, какие примеры христианского подвига произвели на Вас самое сильное впечатление в жизни?
С некоторыми подвижниками я познакомился через своего отца – Владимира Николаевича Щелкачева. Ему в 1930-х годах приписали участие в контрреволюционной церковно-монархической организации (чего на самом деле не было), арестовали и потом отправили в ссылку, но благодаря этому он встретил духовных наставников, друзей, и это стало для него большим приобретением. В тюрьмах и лагерях порой происходили судьбоносные встречи. Можно использовать такое сравнение: в годы гонений вера в стране сильно угасала, оставались какие-то отдельные угольки, а советская власть эти угольки лопатой сгребала вместе, сама того не понимая, и от этого разгорался костер посильнее.
Я очень любил своего духовного наставника, игумена Иоанна (Котляревского). Он, в свою очередь, много получил от преподобноисповедницы инокини Параскевы (Матиешиной). Это была духовная традиция владыки Серафима (Звездинского). К слову, сейчас в Дмитрове открыли его музей-квартиру с домовой церковью. Когда отец Иоанн пришел к матушке Параскеве, то по благословению епископа Серафима (Звездинского) она стала его духовной наставницей – так редко бывает.
Отец Иоанн очень заботливо ко мне относился, выполняя послушание инокини Параскевы. Я ему очень многим обязан – его рассказам, рекомендациям. Отец Иоанн был моим духовным наставником недолго – с 1961 по 1964 год; он скончался от рака. Мой отец познакомился с ним через матушку Параскеву. Благодаря тому, что им руководила мать Параскева и владыка Серафим (Звездинский), отец Иоанн очень глубоко понимал монашескую жизнь, но в монастыре он почти не жил. В 1936 году его принял в число братии Киево-Печерской Лавры ее наместник архимандрит Ермоген (Голубев), в лавре отец Иоанн принял постриг, но был вынужден покинуть Киев из-за отсутствия прописки.
Образование у отца Иоанна было самое простое. Во время войны он был в армии писарем, служил в войсках Рокоссовского: туда отправляли уголовников, а потом туда же стали отсылать верующих людей. Отец Иоанн уже был тайным монахом, но так получилось, что он ни в кого не стрелял, только был писарем и даже имел за это орден и несколько медалей.
До того как его в начале 1960-х лишили регистрации, у него был приход в Полтаве. Он любил этот храм, много проповедовал. Это был сельский приход, но туда приезжали люди со всех концов. Отец Иоанн позволял ночевать в притворе храма. Во время хрущевских гонений было выдвинуто типичное обвинение, что он незаконно устроил гостиницу. Его лишили регистрации, храм закрыли и потом полностью сломали. Местный епископ поддержал закрытие храма. Отец Иоанн был настолько расстроен из-за этого, что не хотел с ним вместе служить, поэтому святитель Афанасий (Сахаров) дал отцу Иоанну благословение служить Литургию дома.
Когда отца Иоанна лишили регистрации, он, до этого живший без пенсии, сказал, что, раз власти так поступили, пусть платят ему пенсию, тем более, что у него и орден есть. С этой ситуацией было связано его наставление: «Не приходи к Богу как пенсионер, а приходи, как нищий».
Сильное впечатление на меня также произвел владыка Стефан (Никитин). Позже, когда я проводил занятия по Новому Завету, я всегда о нем вспоминал, потому что у него было идеальное знание Нового Завета. Андрей Борисович Ефимов, который был с ним близок, мне рассказал, что владыка знал Новый Завет наизусть, но, чтобы своих знаний не обнаруживать, обычно держал в руках книжечку: если нужно было говорить, он ее открывал и что-то цитировал – и казалось, что Сам Иисус Христос отвечает на наши вопросы, это было очень убедительно. Это умение владыки найти подходящие фрагменты к тому, о чем мы говорили, поражало. Я знал Новый Завет не наизусть, но близко к тексту, но, когда проводил занятия или беседовал с адвентистами, нередко бывало, что нужное место вспоминал только после окончания разговора, хотя очень хорошо его знал. Сразу держать все это в голове – это более совершенное знание.
Другое, что поражало во владыке Стефане – его апостольский дух. Когда мы ведем разговор на серьезные темы, то в какой-то момент наступает усталость, нужно отдохнуть, отвлечься, пошутить. А у него такой усталости не возникало, о чем бы он ни говорил.
Исповедниками были многие, с кем-то я был лично знаком, – как, например, с Александром Борисовичем Салтыковым, о других знал по рассказам – как об отце Владимире Воробьеве, дедушке нашего отца Владимира. Можно вспомнить Елену Владимировну Апушкину, которая была выслана в Казахстан; тетушек, у которых в Алма-Ате папа познакомился с матушкой Параскевой; прошедшую через ссылку мать Евфросинию (в миру Елизавету Сергеевну), сестру отца Алексея Беляева. Мать Ефросиния была близка с сестрой патриарха Алексия, поэтому имела возможность жить в маленькой комнатке в Троице-Сергиевой лавре, в корпусе, где теперь Духовная академия находится.
Отец Александр, Ваши воспоминания о владыке Стефане (Никитине) уже изданы, а есть ли план написать и издать воспоминания о других названных Вами людях?
Сейчас меня просили отредактировать тексты об отце Иоанне (Котляревском) и о некоторых других людях; про Александра Борисовича Салтыкова надо написать. Когда я заболел ковидом, то стал думать, сколько я не сделал, сколько упустил – причем без меня этого уже никто не сделает. Надо постараться до того, как в следующий раз окажусь в безвозвратном положении, что-то сделать, многое хотелось бы записать.
Материал подготовлен Отделом информационных коммуникаций ПСТГУ
_____________________________________
1. Рассел Бертран.Человеческое познание. Его сфера и границы / Перевод Н. В. Воробьева; Общ. ред. и вступ. статья д-ра философ. наук проф. Э. Кольмана. – М.: Изд-во иностр. лит., 1957. – 555 с. – (Для научных библиотек)↩
2. Воробьев Николай Владимирович – преподаватель логики на философском факультете МГУ, отец протоиерея Владимира Воробьева, ректора ПСТГУ. «Человеческое познание» Рассела в СССР было доступно ограниченному кругу читателей в научных библиотеках. Семье Щелкачевых книга была подарена Н. В. Воробьевым. Содержание книги противоречило официальному марксизму, но вместе с тем могло породить сомнения в христианской вере.↩
3. Бывший протоиерей Александр Осипов, преподаватель Ленинградской духовной академии, один из самых известных ренегатов (отступников от веры). ↩
4. Пестов Н. Е. Жизнь для вечности. М., 1999.↩
5. Луис Корвалан – идейный руководитель чилийских коммунистов, был арестован в 1973 г. после государственного переворота, устроенного Аугусто Пиночетом. В 1976 г. Андрей Сахаров выступил с инициативой обмена Корвалана на диссидента и политзаключенного В. Буковского. Обмен состоялся в декабре того же года в цюрихском аэропорту «Kloten». До 1983 г. Корвалан жил в Москве, затем инкогнито вернулся в Чили.↩
6. Гейзенберг В. Физика и философия / Перевод с нем. И. А. Акчурина и Э. П. Андреева; Общая ред. и послесл. акад. М. Э. Омельяновского. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 293 с. (Для научных библиотек).↩
7. Фалангист – член политической партии «Испанская Фаланга», основанной в 1933 г. и близкой по идеологии итальянскому фашизму.↩
8. Имеется в виду Христианский семинар, организованный в 1974 г. Александром Огородниковым, одним из «церковных диссидентов».↩
9. Всероссийского Поместного собора 1917–1918 гг.↩
10. Емельянов Николай Евгеньевич (1939–2010) – доктор технических наук, профессор, создатель электронной базы данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» и базы данных памятников восточно-христианского искусства, первый декан факультета информатики и прикладной математики ПСТГУ.↩
11. Ефимов Андрей Борисович – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой миссиологии в ПСТГУ.↩
12. Богачев Владимир Игоревич – профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой математики на факультете информатики и прикладной математики ПСТГУ.↩
13. Богачева Анна Николаевна – дочь проф. Н. Е. Емельянова, в настоящее время заместитель декана факультета информатики и прикладной математики ПСТГУ.↩
14. Михаил Ефимович Губонин – церковный историк, бывший очевидцем служения Святейшего патриарха Тихона, принимавший участие в патриарших богослужениях и с 1920-х годов начавшего, с риском для жизни, собирать материалы по современной истории Русской Православной Церкви. Труд Михаила Ефимовича «Акты Патриарха Тихона» – стали первой книгой по церковной истории, изданной нашим университетом (1994 г.).↩
15. Протоиерей Николай Беляев (+12.01.2021).↩
16. Елевферий (Богоявленский), митр. Неделя в Патриархии: Впечатления и наблюдения от поездки в Москву. П., 1933. ↩
17. Лев Регельсон – один из «церковных диссидентов», участник Христианского семинара, организованного Александром Огородниковым, автор книги «Трагедия русской Церкви» (ИМКА-пресс, 1977 г.). ↩
18. Владыка Ермоген (Голубев) с 1953 по 1960 гг. был архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским. ↩
19. До революции и в наши дни это город Сергиев Посад. ↩
20. Протоиерей Петр Гнедич (1906–1963) – профессор Ленинградской духовной академии. В 1932 г. был арестован как активный член Маросейской общины, три года отбывал ссылку в Алма-Ате. ↩
21. «Побеждайте молитвой…»: письма митрополита Вениамина (Федченкова) Надежде Павлович. М.: ПСТГУ, 2020.↩
22. Ведерников Анатолий Васильевич – литературный редактор, сотрудник издательства Московской патриархии с 1948 по 1962 гг.↩
По материалам сайта Учебного комитета Русской Православной Церкви uchkom.info